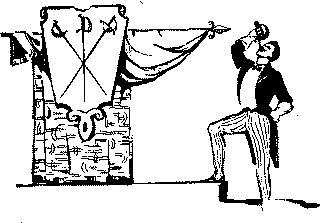
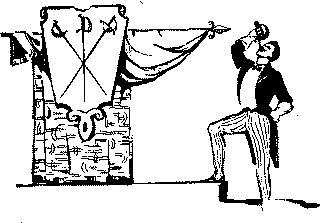
ГЛАВА
III
Жизнь на колесах
-
Ярмарка - народное
торжище
- Живые русалки и женщины-пауки - Как
глотают
лягушек- Способ сделать себя несгораемым –
Вкус
шпаги - В домике на окраине - Сила гипноза – История
с профессором Кругловым - Украденные часы - В
дни
событий на К.ВЖД - Иллюзионное искусство
египетских
жрецов - Разоблачитель спиритов Гарри Гудини –
Слезы
иконы - Из провинции в Ленинград - По методу
профессора Беккера
-
«Балаган на
Невском».
Конец двадцатых и начало тридцатых годов я
провел в разъездах по стране. Куда только не забрасывала меня
артистическая судьба! Я выступал на просторных, отлично оборудованных сценах и
на скрипучих подмостках маленьких клубов, в музыкальных раковинах и в самых
обыкновенных сараях, наспех приспособленных под выступления. Как в
калейдоскопе, мелькали города Урала, Сибири, Дальнего Востока. Мы
обслуживали такие станции, как Зима, Ерофей
Павлович...
Мы приезжали утром в какой-либо населенный
пункт, распаковывались, вечером выступали и, отработав, немедленно ехали
дальше. Мне нравилась такая беспокойная жизнь. Во время этих поездок я как бы
снова, теперь уже практически, проходил курс географии
страны.
Я
видел города, где новое уже давно властно вторглось в жизнь, и глухие, далекие
уголки, где в ту пору еще сохранялся старый провинциальный
уклад.
Тот, кто бывал в двадцатых годах в этих маленьких городках, наверное,
хорошо помнит их облик. Дома, покрытые черепицей, заборы, канавы,
деревянные мостки для прохожих. На главной улице - булыжник. Летом между камнями
пробивается трава. Подует ветер и понесет по улице клочки сена, обрывки
бумаги...
В
таких городках часто устраивались ярмарки. Они представляли для меня
особый, я бы сказал, профессиональный интерес. И не столько сами ярмарки,
сколько ярмарочные развлечения.
Представьте себе теплый весенний день. Облака, плывущие в голубой вышине,
капли, падающие с крыш и деревьев. А на широкой, пригретой солнцем базарной
площади - говор и смех, веселые звуки гармоники, писк свистулек. Цветистые шатры
каруселей, взлетающие высоко в небо качели... Ярмарка - любимое народное
торжище. Здесь, на площади, можно было увидеть комедию с Петрушкой, с
«козой-барабанщицей». В толпе ходили шарманщики с попугаями, у которых каждый
желающий мог приобрести билетик со «счастьем». Бородатые цыгане-поводыри водили
на цепи медведей, показывавших, как валяется по земле пьяный и как
пудрится", глядясь в зеркало, кокетливая красавица.
Нередко на ярмарках появлялись фокусники. Фокусы, которые они показывали,
не были особенно сложны, но они были забавны и очень нравились невзыскательной
публике. Почему-то большинство из ярмарочных артистов объявляли себя
учениками известного итальянского фокусника Пинетти.
Вот фокусник обводит взором обступившую его толпу и
спрашивает:
- Нет ли здесь, граждане,
влюбленных? Толпа молчит. Но фокусник не теряется.
- Сейчас мы проверим,-
говорит он.
Откуда-то достается стеклянная трубочка. Фокусник показывает ее зрителям.
В трубочку налит подкрашенный спирт. Фокусник объясняет, что если эту трубочку
возьмет в руки влюбленный, то спирт начнет кипеть.
- Кто хочет испытать? -
обращается фокусник к зрителям.- Может быть, вы?
Кто-то берет трубочку в руки. Спирт не кипит.
- Ну, а вот вы, молодой
человек? - предлагает фокусник.
Как только молодой человек, к которому обратились, прикасается к
трубочке, подкрашенная жидкость начинает бурлить, клокотать и даже
подниматься до краев сосуда.
- Эге, вот кто, оказывается,
влюблен! - заявляет фокусник
и грозит пальцем. Толпа смеется.
Тут же на ярмарке демонстрировались «феномены XX века», «живые русалки» и
«женщины-пауки».
Они помещались в отдельных будочках. Вход туда закрывали пестрые
занавески. Зрители входили в такую будочку, и перед их взором представал
постамент, сделанный в виде треножника, а на нем русалка либо огромный паук с
женской головой. Русалка двигала своим длинным чешуйчатым хвостом, а паук
шевелил мохнатыми лапами.
- Говорящая наяда с острова
Транидада, отвечает на все вопросы, курит папиросы, спит в лохани, можете убедиться в этом сами,— такое объяснение
давал стоящий рядом хозяин балагана.
Или же:
- Заморский паук, не
имеет ни ног ни рук, не спит, не питается, а,
как видите, улыбается.
Секрет этого иллюзиона был прост. Между ножками треножника под
особым углом прикреплялись зеркала. Они образовывали своего рода трехгранный
ящик, в котором сидела исполнительница. Голова ее была просунута в отверстие,
сделанное посреди постамента и замаскированное картонным или матерчатым
туловищем русалки или паука. Зрителям, стоявшим в отдалении, благодаря зеркалам
казалось, что между ножками - пустота. Жалкое, убогое
зрелище!
Самые разнообразные фокусники подвизались на ярмарках. Здесь можно было
увидеть «людей-аквариумов», «королей огня»,
шпагоглотателей.
«Люди-аквариумы» выпивали одну за другой десять бутылок воды и тут же,
запрокинув голову, фонтаном извергали ее обратно. Они же глотали живых лягушек,
рыбок и тем же путем выбрасывали их назад. Я видел однажды человека,
который проглотил целое яйцо и тут же, улыбаясь, возвратил его
обратно.
Понятно, что подобного рода малоэстетическое «глотание» не имеет никакого
отношения к искусству. Здесь просто демонстрируется умение управлять своим
желудком, которое достигается путем долгой тренировки. Таким людям, например,
ничего не стоит извергнуть фонтаном воду — для этого надо лишь надавить на
диафрагму. На финал обычно проделывается такой трюк: уйдя за кулисы,
исполнитель выпивает керосин, затем снова появляется перед зрителями, подносит
ко рту зажженную спичку и... самое настоящее пламя вырывается у него струей
изо рта. Он направляет огненную струю на факел, и факел, предварительно
смоченный керосином, воспламеняется.
Удивительные, на первый взгляд почти невозможные трюки проделывали
«короли огня». Они брали в руки горячие угли и раскаленное железо, водили
им по лицу и обнаженному телу, становились на него голыми ногами, пили
кипящее масло, расплавленный свинец - и все это без видимого для себя вреда.
Один такой «несгораемый», которого я наблюдал на ярмарке, откусывал
раскаленное железо зубами, точно какой-нибудь
бутерброд.
О
том, как сделать себя «несгораемым», известно было еще в давние времена. Как-то
на ярмарке я приобрел у букиниста две книги. Обе были изданы в Москве: одна - в
1841 году, другая - в 1894. Первая носила название «Чародей XIX-го столетия, или Собрание любопытных
физических и химических опытов, служащих для приятного препровождения времени»,
вторая - «Доктор магии, или Книга чудесных действий, заключающая в себе до 500
фокусов».
Там, в частности, рассказывалось о том, как один испанец по имени
Лионетто, выступая в 1809 году в Париже и других городах Западной Европы,
удивлял зрителей своей нечувствительностью к огню. Он клал на волосы раскаленную
докрасна железную лопатку, а другим куском раскаленного железа бил себя по
ноге, выпивал три ложки кипящего масла и погружал пальцы в
растопленный свинец.
Такая нечувствительность к огню объяснялась очень просто: перед тем
как проделывать свои «опыты», Лионетто натирался специальной смесью из
различных химических веществ. В книгах приводились рецепты этих смесей. Тот
же прием использовали и ярмарочные «короли огня».
Надо сказать, что подобного рода рискованные эксперименты не являются
монополией одних только цирковых фокусников. Среди мастеров сталелитейного дела
бытуют рассказы об удальцах, которые ладонью рассекают струю металла или же
окунают в него, руку. Понятно, что не всякий согласится на этот
«эксперимент».
Наряду с «людьми-аквариумами» и «королями огня» удивление у посетителей
ярмарки вызывали шпагоглотатели. Ударяя шпагой о шпагу, исполнитель привлекал к
себе внимание зрителей. Когда их собиралось достаточно, шпагоглотатель
показывал, что шпага, с которой он имеет дело, самая настоящая. После этого он
несколько раз быстро проводил по клинку шелковым платком, запрокидывал
голову и ловко вставлял шпагу себе в пищевод по самую
рукоятку.
Этот трюк эффектный, но опасный, он требует длительной тренировки.
Сперва шпагоглотатель приучает свое горло к щекотанию, потом начинает вводить
туда предметы, начиная обычно со свечки. Для того чтобы предметы не вызвали в
горле спазм, их надо слегка нагреть. Шпагоглотатель всегда держит наготове
платки, которыми он протирает клинки и таким образом нагревает
их.
Рассказывают про известного циркового шпагоглотателя Августа. Он
проглатывал шпагу, к концу которой была прикреплена маленькая электрическая
лампочка. Просвечивая сквозь кожу, она вызывала, тем самым, дополнительный
эффект. Однажды лампочка разбилась в пищеводе. Осколки стекла извлечь не
удалось, и артист поплатился жизнью.
Но не надо думать, будто бы все шпагоглотатели пользуются настоящими
шпагами. Балаганные артисты, как правило, выступали со шпагами складными,
незаметно уходившими в ручки, или же привязывали себе искусственные бороды, в
которые и прятали шпаги. Об этом - о шарлатанстве, о грубом обмане зрителей - я
знал еще со времени своего знакомства с Бен-Аля...
Мои поездки по стране продолжались. В августе 1928 года я выступал в
Махачкале, а в октябре того же года - в Смоленске, в августе следующего года наш
ансамбль гастролировал в Чите, где мы работали в кинотеатре
«Олимп».
В
Чите произошел случаи, которому я до сих пор не перестаю удивляться. Неожиданно
я оказался в роли гипнотизера. Как я уже говорил выше, случалось, что мне
приписывали иногда «гипнотическую» силу. В Вольске, например, ко мне
обратились из местной больницы с просьбой усыпить больного, которому нельзя было
давать наркоз.
Но здесь, в Чите, дело было иного рода. Здесь надо было
загипнотизировать женщину, которая пожелала этого из
каприза.
У
нее были какие-то романтические взаимоотношения с нашим администратором. И вот,
как гоголевская Оксана, которая потребовала от кузнеца Вакулы царские
черевички, так и эта своенравная читинская красавица поставила перед
администратором условие: она захотела, чтобы ее загипнотизировал
Кио.
- Но почему
Кио?
- Так я хочу... Ведь он же
гипнотизер!
Напрасно бедный администратор доказывал, что Кио только иллюзионист и что
никакого отношения к гипнозу не имеет. Женщина ничего и слушать не хотела.
В отчаянии администратор обратился ко мне:
- Эмиль Федорович,
помогите...
Я
был тогда молод, любил пошутить и решил попробовать, что из этого
выйдет.
Домик, куда меня привел администратор, был маленький, чистенький, с
крашеными деревянными полами, скрипевшими под ногами. На низеньких окнах
стояли горшки с цветами, висели тюлевые занавески. Нас встретила молодая
женщина. Здороваясь, она подала мне руку. Я почувствовал, что рука у нее
влажная. Значит, женщина сильно волновалась и, таким образом, была уже готова к
гипнозу.
Я
пристально посмотрел на женщину и спросил:
- Вы хотите, чтобы я вас
загипнотизировал?
- Хочу,- ответила она. Тогда
я приказал:
- Смотрите мне в
глаза!
Она подняла на меня глаза, и только я произнес «спать!», она тут же
упала. Мы подхватили ее и затем я начал проделывать все те манипуляции, которые
обычно проделывают гипнотизеры. Я сказал: «Сейчас вы находитесь возле моря,
вода у ваших ног, осторожно - вот она уже вам по колено». Женщина вскочила
на стул, потом на стол. Все получалось так легко и просто, что у меня
закралось сомнение: кто кого дурачит? А вдруг эта женщина меня разыгрывает?
И я решил проверить.
В
углу комнаты я заметил мешок с картошкой, только что принесенной с огорода.
Я взял картофелину и, подавая женщине, сказал:
- Какое чудесное
крымское яблоко! Понюхайте. Какой аромат! А какое оно вкусное,
сладкое. Попробуйте.
К
моему удивлению? женщина стала с аппетитом есть эту грязную, запачканную
землей картошку. Тут я убедился, что она по-настоящему спит, и разбудил
ее.
Лет двадцать тому назад в Цирках довольно часто выступали гипнотизеры,
проделывавшие со зрителями удивительные вещи. Скажу по секрету, что кое-кто из
«гипнотизируемых» были, так же как и у Касфикиса, набраны из числа людей,
желающих заработать. С этими гражданами «гипнотизер» заранее репетировал
все трюки. Но если говорить о настоящих мастерах гипноза, а не о
шарлатанах, то они действительно гипнотизировали лиц из публики, проводя с
ними различные опыты.
Как проводился в цирке сеанс массового гипноза? Обычно вначале врач
читал краткую лекцию о гипнозе, затем выходил гипнотизер, в руках у него
была небольшая палочка, на которой он просил сосредоточить внимание тех,
кто желал быть загипнотизированным.
- Приготовились,- говорил
гипнотизер.- Начали.
И
он считал: раз, два, три, четыре, пять... И вот в разных концах циркового
амфитеатра люди засыпали, к ним спешили униформисты и выводили их на арену.
И уже на арене гипнотизер заставлял находящихся в состоянии гипнотического сна
людей выполнять свои приказания.
Благодаря чему гипнотизеры достигали успеха? Я убежден, да и сами
гипнотизеры говорили мне об этом, в первую очередь благодаря самогипнозу,
тому, что зрители верили в необычайную силу гипнотизера и, веря в нее, засыпали,
так сказать, сами себя уговорив. Не случайно, если человек не верит в
гипноз, то его усыпить почти невозможно. Значит, гипнотизер должен заставить
поверить в свою силу, а для этого требуется настоящее
мастерство.
Но настоящий гипнотизер умеет загипнотизировать, даже если
гипнотизируемый и не желает этого. Я не врач, не физиолог и не психолог, я не
знаю механики гипноза. Но вот чему я сам был свидетелем.
В
цирке особенный успех среди гипнотизеров имел Орнальдо (Николай Александрович
Смирнов). С Орнальдо мне пришлось выступать в цирке в Тбилиси. После
окончания выступлений мы поехали в Баку. В поезде произошел случай, который
мне особенно запомнился. Я и Орнальдо пошли в вагон-ресторан. Сели за столик,
заказали завтрак. Пока официантка выполняла заказ, мы обратили внимание на двух
пассажиров, сидевших неподалеку. Очевидно, они видели наши выступления в
Тбилиси, потому что сильно ругали нас. Один говорил, что выступления Орнальдо -
это жульничество, сплошной обман. Второй поддакивал и в свою очередь говорил то
же самое про Кио.
Услышав, что нас ругают, Орнальдо спросил у меня:
- Хотите, я их сейчас
загипнотизирую?
Люди эти сидели к нам спиной. Я усомнился, сможет ли гипнотизер
продемонстрировать силу своей воли, находясь позади объекта гипноза. И вот
Орнальдо, не дотрагиваясь до этих людей, не глядя им в глаза, загипнотизировал
их. Они как сидели за столиком, так и уснули. Официантка, подходившая к ним
в это время с подносом, громко вскрикнула от удивления. Мы рассказали ей, в чем
дело. Подошел директор вагон-ресторана. Пришлось объяснить и ему. О
необыкновенном случае узнал весь поезд, и со всех вагонов стали приходить
пассажиры, чтобы посмотреть на людей, погруженных в гипнотический сон. Все
очень смеялись. Да и трудно было удержаться от смеха, глядя, как двое взрослых
людей, откинувшись на спинки стульев и склонив головы, мирно спят за
столиком перед тарелками с салатом и недоеденными бутербродами с ветчиной.
Пришел и начальник поезда. Он посмотрел на загипнотизированных, испугался и
строго сказал:
- Скорее разбудите этих
людей, а то они еще умрут.
Орнальдо, также не прикасаясь к спящим, разбудил их. Они проснулись и тут
же, к всеобщему удивлению, как ни в чем не бывало, стали продолжать свой
разговор. Они ничего не помнили, что с ними
произошло.
Кто-то рассказал им о случившемся. Они не поверили. Это подтвердили
другие пассажиры, официантка, начальник поезда. Тогда оба страшно смутились. Они
подошли к нам и начали извиняться за то, что ругали нас, В свою очередь
извинился и Орнальдо за то, что сделал их объектом гипноза, да еще в такой
необычной обстановке.
Орнальдо вообще был очень сильным гипнотизером, впоследствии он стал
заниматься лечебным гипнозом: усыплял больных, подлежащих операции, и те не
чувствовали никакой боли.
В
настоящее время гипнотические сеансы на аренах цирков не проводятся. Я думаю,
что это правильно, и вот по каким трем причинам: во-первых, сеансы гипноза
лежат вне сферы искусства цирка, они скорее могут проводиться в условиях клиник
или научных институтов; во-вторых, есть основания полагать, что гипноз
вредно действует на гипнотизируемого, и, кроме того, едва ли следует
поощрять публичное издевательство над зрителями. Я сам видел, как многие
нервничали и плакали, когда им рассказывали о том, какие глупости они
проделывали, находясь в гипнотическом сне. А ведь это происходило в присутствии
сотен зрителей. И, в-третьих, уж очень много шарлатанства было в этих
гипнотических сеансах.
Говоря о гипнозе, я хочу привести еще один случай, происшедший со
мной. Это было во время наших гастролей в Томске.
Я
давал выступление в Томском университете. Актовый зал был полон. Вдруг прибежал
испуганный комендант и заявил, что идет профессор Круглов. Это был чрезвычайно
строгий человек, не допускавший никакого легкомыслия, изгонявший его из
студенческой среды. Он был против выступления какого-то фокусника в
университетских стенах. Поэтому комендант был страшно напуган и только
повторял:
- Идет профессор Круглов.
Что будем делать?
- Ничего,- сказал я,-
поставьте стул и усадите профессора. Пусть он тоже смотрит вместе со
всеми.
Профессор сел в первом ряду. Вид у него был недовольный. Фокусы,
которые я проделывал, были ему явно не по душе.
В
моем репертуаре был такой номер. Я брал у зрителей разные мелкие вещи - ключи,
кольца, брошки, мундштуки - клал в шелковый платок, опускал в ящик,
стоявший на столике, запирал и стрелял из пистолета. После этого ящик открывали
и... он был пуст. Вещи оказывались в противоположной стороне зрительного зала,
где стоял другой ящик. Когда я открывал первый ящик, в нем находился второй, во
втором - третий и т. д.- всего восемь ящиков. В самом последнем лежали
вещи, завернутые в платок.
Я
решил подшутить над строгим профессором и возвратил зрителям не все вещи:
два кольца оставил у себя. Поднялся шум - где кольца? Тогда я обратился к
публике с просьбой проверить у себя в карманах - не попали ли кольца туда, и, в
частности, попросил это сделать профессора Круглова, тот
возмутился:
- Что я, жулик, что ли? Я
профессор! Знаете ли вы это? Никаких колец у меня быть не
может.
Я
ответил.
- Я знаю, что вы профессор,
однако кольца лежат у вас в левом кармане.
Профессор сунул руку в карман пиджака и... вытащил оба кольца. Почтенный
ученый так смутился, покраснел, что на его лысине даже выступил пот. Зал
начал бешено аплодировать, а профессор сконфузился еще больше. Он не знал,
как отнестись ко всему этому: в шутку или всерьез?
В
финале номера я, как всегда, поднимал в воздух женщину. Этот номер всех очень
поразил. После окончания выступления студенты стали спрашивать профессора:
как это делается? Бедный профессор был настолько расстроен, в связи с тем,
что в его кармане обнаружились чужие кольца, что ответил студентам: «Это гипноз
по теории Штейна».
А
я в то время даже не знал, что это за теория. Только позже мне стало известно,
что способ поддержания тела в воздухе по теории Штейна представляет собой
чисто технический эксперимент. Он заключается в том, что при помощи винта
обыкновенного авиационного мотора можно достичь положения, при котором
любое физическое тело может находиться некоторое время в воздухе. Но это,
кажется, лишь теоретическое предположение, которое на практике никем и
нигде не осуществлялось.
Конечно, кольца в карман профессора подложил один из моих
ассистентов.
Надо сказать, что с этим номером произошел еще один казус. Это было во
время выступления в саду имени Баумана в Москве. Среди вещей, собранных у
зрителей для фокуса, были золотые именные часы. Когда моя помощница раздала все
вещи обратно, из публики раздался голос:
- А
часы?
- Какие часы? - удивилась
помощница.
- Которые вы у меня
взяли.
- Но я же все
раздала.
-
А вот часов нет. Отдавайте часы!
Поднялся шум. Помощница заплакала. Оказалось,
что часы кто-то украл с подноса в тот момент, когда помощница раздавала вещи.
Часы найти не удалось. Пришлось мне уплатить владельцу украденных часов их
стоимость.
В своих номерах чем дальше, тем больше я
стремился откликаться на злободневные события.
События на КВЖД, например, натолкнули меня на
мысль создать большой номер на политическую
тематику,
Номер назывался «Наш ответ интервентам». На
сцене устанавливалась декорация: березки, полосатые будки и столб с
надписью: «Интервентам вход строго воспрещен». Появлялись двое: иностранный
генерал и диверсант. Генерал давал диверсанту последние указания.
Убедившись, что будки пусты, диверсант переходил границу. Но тут из будок
неожиданно выскакивали советские пограничники и задерживали
лазутчика.
Номер «Наш ответ интервентам», с сегодняшней
точки зрения, очень примитивен, тема решалась, что называется, «в лоб». Очень
шаблонно, плакатно выглядели персонажи. Однако для меня номер был очень важен.
Он показал, какие богатые возможности заключены в иллюзионном жанре.
Построенный на сюжетной основе, с широким использованием слова, музыки, света,
он выходил за рамки традиционной иллюзии. И этот прием я решил закрепить;
использовать в своей дальнейшей работе.
В одном из городов - не помню в каком - ко мне
пришли несколько комсомольцев и сказали;
-
Вот вы, товарищ Кио, показываете разные фокусы. А знаете ли вы, что в
церкви тоже бывают фокусы? В наших местах, например, появилось чудо -
«обновленная» икона. И к ней идет усиленное паломничество. Вот бы
отобразили это в своей работе.
Слова комсомольца заставили меня задуматься: в
самом деле, почему бы не обратиться к антирелигиозной пропаганде, тем более что
сам по себе иллюзионный жанр дает для этого большие
возможности?
Здесь мне хочется несколько отвлечься и
поговорить о прошлом.
Как ни странно, но иллюзия издавна служила
интересам религии, широко пользовались приемами иллюзии египетские жрецы.
Установленные в храмах статуи «плакали» и истекали «кровью». В жертвенниках
пылал «неугасимый» огонь. Двери храмов отверзались «невидимой» рукой при
раскатах грома, сверкали молнии.
В одном из храмов проделывали такой трюк.
Стоило только зажечь жертвенник, как в глубине храма открывалась потайная
дверь и за ней показывалась фигура богини.
В
другом храме было такое «чудо»: под узорчатым куполом, поддерживаемым четырьмя
деревянными столбами, возвышалось изваяние женщины. Из одной ее груди изливалось
молоко, из другой - вино.
Все эти фокусы совершались при помощи довольно сложных механизмов. Они
были скрыты в тайниках и до поры до времени бездействовали. В ход их пускали при
особо торжественных богослужениях. Так, молоко и вино, изливавшиеся из
груди богини, подавались при помощи особой системы труб. Эти трубы были спрятаны
в деревянных столбах и незаметным образом соединялись со
статуей.
Не только в Древнем Египте, но и в более поздние времена иллюзии служили
религиозным целям, являлись могучим орудием в руках духовенства, игравшего на
суеверии и невежестве народных масс.
Шаманы и восточные «заклинатели духов», своими чудесами повергавшие в
изумление народ, в сущности, те же фокусники. Известный ученый и писатель В. Г.
Тан-Богораз, живший долгое время на Крайнем Севере, рассказывал о таком «чуде»,
которое проделывала чукотская шаманка. Она разрезала ножом живот своего сына,
четырнадцатилетнего мальчика, потом лизала рану, из которой текла кровь, и через
несколько минут от раны, нанесенной острым лезвием, не оставалось и следа.
Это был фокус, причем весьма нехитрый. Шаманка брала в рот комки снега с
замерзшей тюленьей кровью. Комки таяли и женщина, приложив рот к животу
мальчика, незаметно выпускала на него маленькие кровавые струйки. При этом она
делала вид, что режет тело ножом.
Тут же надо сказать и о греческих оракулах, которые занимались
прорицанием, предсказывали будущее. Суеверные люди думали, что устами
оракула вещает дух. Однако дух тут был ни при чем. Секрет подобных
«предсказаний» раскрыл в басне «Оракул» баснописец И. А. Крылов. Он
писал:
А
дело в том.
Что идол был пустой, и саживались в нем
Жрецы вещать мирянам.
К
этому можно добавить, что оракулы были искусными чревовещателями. Некоторые
считают, что чревовещание — это своеобразная речь в живот или даже животом.
На самом же деле чревовещание— это искусное владение голосом. Чревовещатель
говорит, почти не двигая мускулами лица и почти не шевеля
губами.
В
середине XIX века все
эти и другие фокусы широко применялись в спиритизме — вздорном, суеверном
веровании в возможность общаться с «душами» умерших. Особыми посредниками, через
которых осуществлялось общение, являлись так называемые медиумы. Это были
шарлатаны, знавшие сотни различных фокусов, начиная от простого поднимания в
воздух «спиритического» столика, или, как они торжественно называли, «элевации»,
до сложной «материализации духов».
Энергичную борьбу против тех, кто занимался столоверчением, вел известный
цирковой артист Гарри Гудини (1874-1926). Венгр по происхождению, он еще
ребенком бежал с передвижным цирком и вместе с ним попал в Америку. В цирке
Гудини был клоуном, чревовещателем, фокусником. В частности, он проделывал такой
трюк: проглатывал одну за другой тридцать иголок, потом нитку и вытаскивал
иголки нанизанными на нитку,
Кстати, как делается этот фокус? Совсем недавно им поражал зрителей
венгерский манипулятор Пал Поташи. Другой фокусник, чехословацкий артист Лев
Блага, вместо иголок «глотал» бусинки жемчуга и вынимал их нанизанными на нитку.
Так вот фокусник только делает вид, что он глотает нитки и иголки, на самом же
деле он прячет их, а потом извлекает другую нитку с уже нанизанными иголками, до
этой поры ловко запрятанную за щеку.
Но вернемся к Гудини.
Наибольшую известность Гудини доставила виртуозность, с какой он
освобождался от всяких оков: веревок, цепей и т. д.
Для того чтобы освободиться от цепей и веревок, надо, чтобы тебя
связывали определенным образом, так, чтобы узлы в нужный момент разошлись.
Правда, связывала публика, но фокусник всегда добьется того, чтобы быть
связанным так, как это ему удобно. И, кроме того, Гудини, был «клишником», как
называют мастеров этого жанра в цирке, то есть он умел так сжимать свои руки и
ноги, что самые тугие узлы оказывались широкими, и веревки сами падали с
его рук и ног.
С
именем Гудини связано много любопытных легенд. Говорят, что его сажали голым в
тюремную камеру, где замок был только с наружной стороны, и, несмотря на это, он
через несколько минут уже выходил из камеры. Однажды в Берлине Гудини бросился в
реку в смирительной рубашке и ручных кандалах. Спустя несколько секунд он уже
выплывал, освобожденный от оков. Одним из наиболее смелых трюков Гудини
являлось освобождение из смирительной рубашки. Этот трюк он проделывал, вися
вниз головой на железной балке, высунутой из окна ньюйоркского небоскреба. Трюк,
надо сказать, в чисто американском вкусе! Честно говоря, я не очень-то верю во
все это; мне кажется, что сам Гудини выдумывал все эти истории для чисто
рекламных целей.
В начале XX века, в период увлечения буржуазного общества спиритизмом,
Гудини решил заняться разоблачением медиумов. Называя их шарлатанами, он
неустанно раскрывал проделки спиритов как в печати, так и в публичных
выступлениях. Гудини на арене при полном свете заставлял подниматься в воздух
«спиритический» столик, разоблачая технику таких подъемов, он показывал,
как «духи» общаются с медиумами, оставляют в растопленном парафине слепки
своих рук и т. д., и доказывал, что все это не что иное, как ловкие
фокусы.
Но вернемся к моим попыткам вести
антирелигиозную пропаганду средствами иллюзии. После ряда поисков в этой
области я создал номер, который назвал «Слезоточивая
икона».
Из-за кулис выходил «крестный ход».
«Богомольцы» (их изображали лилипуты) шли на поклонение к новоявленному
«чуду» — «слезоточивой иконе».
Икона не только «плакала», но и вращала
глазами, хлопала длинными, кокетливо загнутыми ресницами, трясла головой.
«Богомольцы» собирали ее слезы в баночки и бутылочки. Номер проходил под
дружный смех зрительного зала. Этот смех становился оглушительным, когда
происходило разоблачение «чуда» - передняя стенка иконы неожиданно падала, и
перед взором зрителей представал якобы чрезвычайно сконфуженный этим
обстоятельством лилипут. В руках он держал наполненную водой резиновую грушу. К
ней были прикреплены трубочки, соединенные с глазами иконы. Нажимая грушу,
лилипут заставлял икону «плакать». Вращение глаз производилось с помощью
часовоТо механизма. Этот номер я иногда сопровождал вступительным и
заключительным словом.
Несмотря на наличие в моем репертуаре таких
номеров, как «Наш ответ интервентам» и «Слезоточивая икона», в целом я, однако,
продолжал оставаться на прежних позициях. Мне казалось совершенно необходимым
придавать своим выступлениям таинственный вид, обставлять их «восточными»
атрибутами. Выходил я в чалме, украшенной фальшивым бриллиантом, и в цветистых
халатах, которые непрерывно менял по ходу работы. Перед моим приездом в
какой-либо город расклеивались широковещательные анонсы: «Кио никем не
разгадан!», «На днях приезжает Кио!», Все должны видеть Кио!» Подобные афиши
пестрели на всех заборах и стенах.
В 1932 году после длительного перерыва мы
вновь приехали з Ленинград. Первой площадкой, где мы начали свои выступления,
был старинный Таврический сад, находящийся в центре города. В те годы он
именовался Парком культуры и отдыха имени 1-й пятилетки. Летом здесь открывались
цирк-шапито и эстрадный театр.
В цирке в тот сезон гастролировал Владимир
Григорьевич Дуров, тогда еще молодой дрессировщик. Он демонстрировал на
манеже многочисленную четвероногую труппу. По утрам из цирка выводили на
прогулку в сад слона, и он купался в пруду, набирая в хобот воду и окатывая себя
точно из шланга. Из других номеров помню воздушных гимнастов Головиных,
музыкальных эксцентриков Гринье и Мишель, иностранного артиста
дрессировщика лошадей Гайера, велосипедистов
Сабини.
Программа эстрадного театра также состояла из
значительного числа цирковых номеров. Здесь выступали партерные акробаты братья
Яловые, велофигуристы - труппа Польди, музыкальные эксцентрики Вийс-Вайс.
Балетная пара Сергеева и Таскин исполняла «Танец змеи». Вел программу Константин
Эдуардович Гибшман, старый мастер эстрады, в прошлом артист театра «Кривое
зеркало». Созданный им образ был весьма любопытен. На просцениум выходил
застенчивый, уже немолодой человек с остатками седых кудрей. Он испуганно глядел
на зрителей и долго не мог начать говорить. Раздавался хохот. Человек конфузился
еще больше. Наконец, он произносил, заикаясь, первые два-три слова и опять
умолкал. В такой манере он вел всю программу.
После выступлений в Парке культуры и отдыха
имени 1-й пятилетки я рискнул откликнуться на приглашение выступить в одном
из лучших эстрадных театров Ленинграда — в театре Сада отдыха. Здесь выступали
только первоклассные советские и заграничные
артисты.
В июне 1932 года здесь подобралась довольно
сильная программа: пел песни артист Московского театра сатиры Д. Л.
Кара-Дмитриев, играли сценки очень талантливые Я. М. Рудин и Р. Г. Корф, со
злободневными куплетами выступали артисты московской эстрады Смирнов и
Вишневская, выходившие в образе бродячих шарманщиков, виртуозную игру на
трубе демонстрировал Я. Скоморовский. Цирковые номера были представлены
артистами Александром и Владимиром Макеевыми, сочетавшими акробатику с игрой на
музыкальных инструментах и танцами, и немецкими акробатами Стрит-Стрит.
Танцевальные номера исполнялись балетным ансамблем Ленинградского
мюзик-холла, состоявшим из тридцати балерин, специализировавшихся в
массовых эксцентрических танцах, которые ставил К. Я. Голейзовский. За
дирижерским пультом эстрадного театра Сада отдыха находился И. О.
Дунаевский, в ту пору еще скромный дирижер мюзик-холла. Вел программу Н. С.
Орешков.
В этом окружении я и появился со своим
иллюзионным аттракционом. Теперь, когда прошло столько лет, я особенно ясно
вижу, как много было в моей работе недостатков. Но тогда я их не
замечал.
В свое время сложилось несколько видов номеров
иллюзионного жанра. Был так называемый «восточный стиль», когда иллюзионист
появлялся в облике таинственного волшебника из фильма «Индийская гробница».
Его сопровождали безмолвные лилипуты и кон-фетно красивые женщины с сильно
подведенными глазами, в прозрачных цветных шароварах и газовых покрывалах.
Другой стиль был «китайский». Для него требовалось наличие бумажных
фонариков и вееров, пестрых зонтиков, полотнищ, украшенных
изображениями драконов. Я был «восточный» фокусник. Но это в
действительности было смешение восточного с
нижегородским.
Выходя на сцену и обращаясь к зрителям, я
объявлял:
- А сейчас я покажу вам опыт гипноза по
способу профессора Беккера. Чтобы ассистентка скорее заснула, я применяю кроме
гипноза также хлороформ. Может быть, в зале есть медицинские
работники, которые подтвердят, что это хлороформ?- И я подавал в зал
бутылку с настоящим хлороформом.
Среди зрителей всегда находились понимающие
люди. Они открывали бутылку, нюхали содержимое и подтверждали, что это
действительно хлороформ. Я ставил бутылку на маленький столик, а сам начинал
«гипнотизировать» женщину. «Загипнотизированная», она ложилась на диван.
Тогда я брал платок и делал вид, что наливаю в него хлороформ. На самом же деле,
в платке была спрятана небольшая губка, из которой текла вода, и я подносил
к носу моей ассистентки не хлороформ, а самую обыкновенную
воду.
После этого женщина поднималась в воздух, Я
обводил вокруг нее палкой, показывая, что она парит в пространстве. Затем
исполнительница потихоньку опять опускалась на диван, просыпалась, падала в
обморок, и ее уносили со сцены.
Между прочим, у меня спрашивали, кто такой
профессор Беккер, по способу которого я производил опыт гипноза. Так вот,
«профессор» Беккер - это известный в XIX веке фокусник.
Итак, мы перекочевали из Парка культуры и
отдыха имени 1-й .пятилетки в Сад отдыха. Прошло несколько дней. И вот однажды,
развернув популярную в то время вечернюю «Красную газету», я увидел в ней статью
под заголовком: «Балаган на Невском». Еще ничего не подозревая, я начал читать
статью и с ужасом убедился, что речь в ней идет главным образом обо мне и что
балаганом назван мой иллюзионный номер. Особенно обрушивался рецензент на
«дешевку» при показе подымающейся в воздух дамы, погруженной в «гипнотический
сон».
Все это, конечно, верно, хотя и неприятно. В
отчаянии я обратился к режиссеру Арнольду Григорьевичу Арнольду, и тот
помог мне избавиться от всей дешевки.
Из Ленинграда я поехал на гастроли в Москву.
Эти гастроли имели для меня очень большое, скажу прямо, принципиальное
значение, но о них в следующей главе.